Фенолио посмотрел на мраморные статуи, стоявшие вокруг, словно видел их впервые.
— Сожалею, мой повелитель, — сказал он, — но таких слов не существует. Смерть — это великое безмолвие. У той двери, что она запирает за нами, иссякают слова даже у поэта. Позвольте мне сейчас нижайше откланяться — дети моей хозяйки остались на внешнем дворе, и я боюсь, как бы они не сбежали с комедиантами, если я еще задержусь здесь. Как все дети на свете, эти малыши мечтают укрощать медведей и плясать на канате между небом и преисподней.
— Да, конечно, иди! — Жирный Герцог устало махнул унизанной перстнями рукой. — Я позову тебя, когда мне снова захочется слов. Конечно, это сладкая отрава, но лишь она способна на несколько мгновений утишить мое горе.
Ах, никогда уже он не проснется!..«Элинор, конечно, сразу бы сказала, чьи это строки», — думала Мегги, шагая вместе с Фенолио к выходу. Под сапогами у нее хрустели сухие травы, устилавшие пол в зале. Их аромат, висевший в прохладном воздухе, как будто хотел напомнить печальному Герцогу о мире, ожидавшем его снаружи. Но тот, наверное, вспоминал при этом лишь о цветах, украшавших могилу Козимо.
Навстречу им в зал вошли Туллио со шпильманом. Кобольд вприпрыжку бежал впереди, как остриженный мохнатый зверек. У шпильмана висели на поясе колокольчики, а на спине — лютня. Это был худой высокий парень с мрачноватым лицом, одетый так пестро, что павлиний хвост показался бы рядом с ним бесцветным.
— И этот тип будет ему читать? — шепнул Фенолио, подталкивая Мегги к двери. — Вот это да! У него к тому же и голос нежный, как воронье карканье. Бежим скорее, пока он не начал дробить мои несчастные слова своими лошадиными зубами.
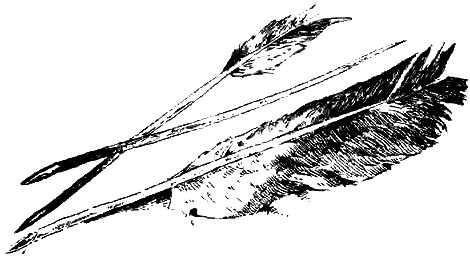
22
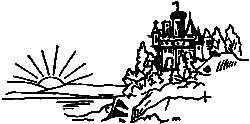
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Сажерук стоял, прислонившись к стене замка, позади лотков, у которых толпился народ. Запах меда и горячих каштанов бил ему в нос, а в вышине над ним балансировал канатоходец в голубом наряде, так напоминавший издали Небесного Плясуна. Он держал в руках длинный шест, на котором сидели крошечные пташки, красные, точно капельки крови, и всякий раз, когда канатоходец поворачивал в другую сторону — легко и непринужденно, словно ничего нет на свете естественнее, чем расхаживать по качающемуся канату, — пташки вспархивали и с пронзительным щебетом проносились у него над головой. Куница на плече Сажерука глядела на них и облизывала круглую мордочку. Это был совсем молодой зверек, меньше и изящнее, чем Гвин, не такой кусачий, а самое главное — он не боялся огня. Сажерук задумчиво погладил мохнатую головку с крошечными рожками. Он поймал его вскоре после своего возвращения на дворе у Роксаны, за курятником, где тот подстерегал добычу. Он назвал его Пролаза, потому что зверек любил незаметно подкрасться, а потом так внезапно запрыгнуть ему на плечо, что Сажерук спотыкался. «Ты что, с ума сошел? — спрашивал он себя, подманивая незваного гостя свежим яйцом. — Ведь это куница. Почем ты знаешь, что смерти не все равно, какая у зверя кличка?» И все же он привязался к кунице. Наверное, весь свой страх он оставил в другом мире — страх, одиночество, невезение…
Пролазу легко было учить, он уже прыгал сквозь пламя, как будто всегда только тем и занимался. С ним нетрудно будет заработать на ярмарке пару монет, с ним и с мальчишкой.
Куница ткнулась мордочкой в щеку Сажеруку. Перед пустым помостом, все еще дожидавшимся именинника, несколько комедиантов устроили живую пирамиду. Фарид пытался уговорить Сажерука тоже показать сегодня свое искусство, но тому сейчас не хотелось выставлять себя напоказ. Ему хотелось побыть зрителем, вволю насмотреться на то, чего ему так не хватало все эти десять лет. Поэтому Сажерук был одет не в черно-красный костюм огнеглотателя, а в обычное платье покойного мужа Роксаны. Они, видимо, были примерно одного роста. Бедняга! Оттуда, куда он ушел, его не приведут обратно ни Орфей, ни Волшебный Язык.
— Почему бы сегодня для разнообразия тебене заработать денег? — сказал он Фариду.
Мальчик от гордости сперва вспыхнул, как маков цвет, потом побледнел как мел и опрометью бросился в толпу. Он был способным учеником. Стоило дать ему крошечную горошинку горячего меда — и Фарид уже разговаривал с пламенем, словно на родном языке. Конечно, огонь не выскакивал для него из земли с такой же готовностью, как для Сажерука, лишь только он щелкнет пальцами, однако, когда мальчик тихо подзывал его, огонь откликался — высокомерно, насмешливо, но откликался.
— А все-таки он — твой сын, — сказала Роксана, глядя, как Фарид рано поутру, чертыхаясь, вытягивает из колодца ведро с водой, чтобы охладить обожженные пальцы.
— Да нет же, — ответил Сажерук и увидел по глазам Роксаны, что она ему не верит.
Прежде чем отправиться в замок, он научил Фарида еще паре фокусов, а Йехан смотрел на них во все глаза. Но когда Сажерук помахал ему, подзывая поближе, малыш убежал. Фарид стал было потешаться над ним за это, но Сажерук велел ему замолчать.
— Огонь сожрал его отца, ты что, забыл? — шепнул он ему, и Фарид смущенно понурил голову.
Как гордо стоял Фарид среди других комедиантов! Сажерук протиснулся между лотками, чтобы получше видеть его. Он снял рубашку — Сажерук тоже иногда так делал, потому что горящая ткань была опаснее, чем ожог на коже, а голое тело легко было защитить от огня жирной смазкой. Мальчик выступал хорошо, до того хорошо, что даже торговцы уставились на него, как зачарованные, и Сажерук воспользовался минутой, чтобы освободить нескольких фей из клеток, куда их засунули, чтобы продать какому-нибудь болвану, как талисман на счастье. «Неудивительно, что Роксана подозревает, будто это твой сын! — подумал он. — Тебя же распирает от гордости, когда ты на него смотришь». Рядом с Фаридом пара шутов разыгрывала непристойный фарс, справа от него Черный Принц боролся со своим медведем, и все же народ все гуще толпился вокруг мальчика, самозабвенно игравшего с огнем. Сажерук видел, как Коптемаз опустил свой факел и завистливо уставился на соперника. Этот никогда ничему не научится. Он сейчас нисколько не лучше, чем десять лет назад.
Фарид раскланялся, и монетки градом посыпались в деревянную миску, которую дала ему с собой Роксана. Он гордо поглядел на Сажерука. Похвала была ему, как кость собаке, и, когда Сажерук захлопал в ладоши, мальчик покраснел от радости. Какой он все-таки еще ребенок, хотя за последние месяцы у него стали пробиваться на подбородке первые волоски.
Сажерук протискивался мимо крестьян, торговавшихся из-за молочного поросенка, когда ворота внутреннего двора вновь распахнулись — на этот раз не для Змееглава, как в прошлый раз, когда он едва успел спрятаться за лотком с пирогами от острого взгляда Свистуна. Нет. Видимо, на этот раз к народу вышел сам именинник, и уж наверное, в сопровождении своей матери и ее служанки. Как сильно забилось вдруг его неразумное сердце. «У нее твой цвет волос, — сказала Роксана, — и мои глаза».
Музыканты Герцога старались изо всех сил. Они выстроились в ряд, гордые, как петухи, и вытягивали в воздух свои фанфары. Свободные комедианты всегда с презрением смотрели на тех, кто навечно запродал свое искусство одному хозяину. Зато те были куда лучше одеты: не в пестрые тряпки, как их бродячие собратья, а в цвета своего повелителя — для музыкантов Жирного Герцога это были золотой и зеленый.